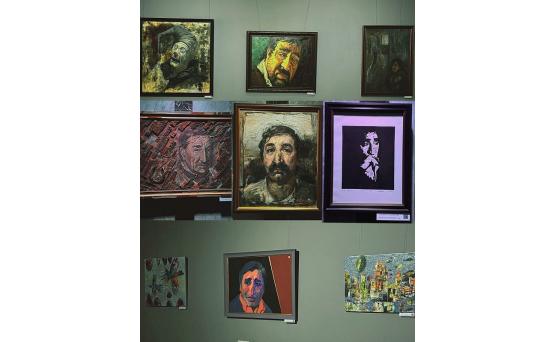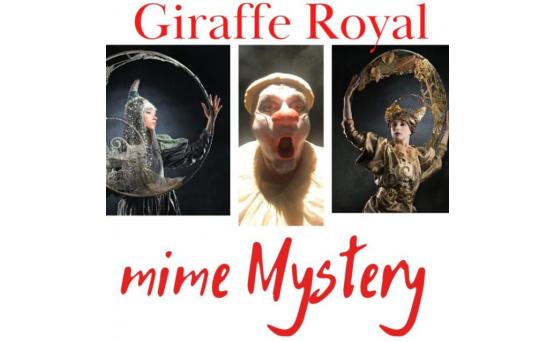"ТЕАТР СТАЛ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ"
В минувшую субботу телеканал H2 уже не в первый раз показал передачу – встречу в Доме Москвы - из цикла "Дорога к себе" с театроведом, заслуженным деятелем искусств РА Маргаритой ЯХОНТОВОЙ. Передача была данью памяти – сегодня сорок дней, как ее нет с нами.
ПРОЛЕТЕЛО СОРОК ДНЕЙ… НО ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕ СОХРАНЯЕТСЯ. Каждый раз, когда захожу в дом к моей подруге и ее дочери Марианне, просыпается уверенность – вот она сидит на диване под золотистым светом абажура, поглаживая золотистую же голову спаниеля, домашней любимицы – "Спокойно, Сандра, это Сона пришла". А потом начнется разговор, и при всем многообразии тем театр, как всегда, окажется супертемой… И независимо от состояния здоровья образ ее обретет летучесть, движение вперед, руки сомкнутся в тщетном порыве сдержать эмоции, шея вытянется, глаза обретут блеск, над которым не властны годы, голос задрожит, губы вытянутся к взволнованно дрожащим ноздрям. Кажется, не зрение, не слух, а обоняние было основой ее художнического чутья. Андрей Вознесенский назвал таких людей прорабами духа - это подвижники, двигатели культуры, поршни духовного процесса. Она и была таким прорабом духа.
Театр не терпит платоники, умозрительного понимания. Она
любила его страстно, и страсть эта не знала утоления и пресыщения. "Я
уехала из Ленинграда в Ереван и, как оказалось, на всю жизнь. Работала здесь в
журналистике, потом стала работать в театре… Для человека, который когда-то
хотел стать актрисой, все перевернулось, и театр стал моей второй жизнью…"
Существует устоявшееся мнение, что часто театроведы выходят из неполучившихся
актеров – театральная критика становится местью театру за любовь без
взаимности. У Маргариты Яхонтовой все сложилось, вернее, не сложилось иначе. В
самом начале пятидесятых, когда марши культа личности еще экстатически звучали,
дочери "врага народа", расстрелянного генерала Виктора Яхонтова,
писавшей в соответствующей графе "отец погиб на фронте", каждый раз
опасаясь разоблачения, путь в Театральный институт с огромным конкурсом и
тщательными проверками был заказан. Судьба не дала ей стать актрисой театра –
она стала его музой, опорой, защитницей и пропагандистом.
Мне приходилось
много раз слушать истории, прозвучавшие в той передаче из цикла "Дорога к
себе", и десятки других. Но невозможно привыкнуть к этой драме детства,
принесенного в жертву, не сумевшему остаться в стороне от больших трагических
судеб в страшную эпоху. Эти рассказы, боль от которых не смогло притупить в
Маргарите Викторовне никакое время – об отце, тридцатисемилетнем генерале,
воевавшем еще в Гражданскую и расстрелянном в 37-м.
"ВОТ ФИЛЬМ
НИКИТЫ МИХАЛКОВА "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" - ЭТО ПРОСТО МОЕ ДЕТСТВО. У нас тоже была дача – в
Севастополе. И все было светло и замечательно. И все кончилось в один
день"... О матери, армянке и дворянке Гоар Мецатунян – отец был мэром
Ахалкалаки, известным в Ленинграде доктором и депутатом Ленсовета… "Мать
стала укладывать меня спать. В это время позвонили в дверь – появился человек в
зеленой гимнастерке - как я назвала его на всю жизнь, "зеленый
человек". Он представился моей маме и сказал, что она должна следовать за
ним… Я была очень кротким ребенком… Я подняла такой крик, это были просто
вопли! Он подошел, захотел погладить меня по головке и сказать, что мама скоро
вернется. Кроткий ребенок, я укусила его за палец до крови. Мама меня успокоила
и ушла. Конечно, она не вернулась…". Вернувшись через шесть лет из лагеря
в Астане, Гоар Мецатунян пробыла с подросшей дочерью всего несколько месяцев и
опять, на сей раз добровольно, уехала в уже другой лагерь, чтобы спасти едва не
умершего в ссылке сына… Потом была эвакуация – вместе с бабушкой-армянкой -
долгая дорога через пол-России, через Тбилиси – в Ереван, к тете. Потом снова
Лениград, сердобольные соседки по коммуналке, потом учеба – вместо заветного
Театрального - на испанском отделении университета и работа личным секретарем у
профессора Александра Смирнова, "человека Серебряного века"…
Происхождение вкупе с насильно на какое-то время прерванной, но затем восстановленной
связующей нитью… Немодные слова "кроткий", "деликатный",
"тактичный" всегда были у нее в ходу, а дефиниция "культурный
человек" имела особое, сакральное значение…
А потом в жизни Маргариты Яхонтовой заполыхал
"Костер". "Это был детский журнал, но там я узнала, что такое
юные диссиденты Ленинграда. В редакции была такая комната, которую мы называли
"Пещера". И вот в этой комнате мы принимали Анну Ахматову – святую
мать этого дела, Булата Окуджаву, который приходил к нам каждый день – был
собкором "Литературной газеты" по Ленинграду и области. Мы принимали
Евтушенко, Беллу Ахмаддулину – у нас было очень много разных разговоров. В
"Костер" приходило очень много молодежи. Например, знакомое имя –
Иосиф Бродский. Юноша, почти мальчик. Единственное место, где он печатался, был
наш "Костер", и потому, что писал он также чудесные стихи для детей.
Вот сейчас идут споры о том, можно ли считать шестидесятниками молодых
участников войны – да! Но все таки шестидесятники были те люди, которых
разбудило разоблачение Сталина…" Нам сейчас и не объяснить, какой широкий
и всеобъемлющий смысл вкладывался в слово "шестидесятники", оно
означало не просто новое мышление, а саму способность мыслить. Оно несло с
собой реабилитацию не только родителей, но инстинктов, эмоций – реабилитацию реальности,
реабилитацию жизни. Но кроме того, это слово стало знаком некой общности, оно
сплачивало людей, оно было словом-паролем.
О кубинской весне ее жизни и встрече с Фиделем Кастро
в нашей прессе появился не один материал. Потом было направление работать на
Кубу, но ее мать "легла на рельсы", и вместо Гаваны молодой журналист
отправилась в командировку в Армению, где прошло ее детство. Из Еревана в
Ленинград она привезла замечательные очерки и желание остаться здесь навсегда…
МОИ ПЕРВЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ УХОДЯТ В ГЛУБОКОЕ ДЕТСТВО. Маргарита Яхонтова была частым гостем в семье
знаменитого барабанщика Роберта Еолчяна – с его супругой Эммой Михайловной
Маргарита Викторовна работала в "Комсомольце". Еолчяны были нашими
соседями и друзьями. Тогда родились дружба с Марианной и право называть ее маму
"тетей Ритой" - самой красивой из знакомых "теть". Те ее
разговоры из детских воспоминаний о Русском театре, в котором она служила, об
Александре Григоряне и его спектаклях, оказалось, были зерном, брошенным не
случайно… Закрываю глаза – она идет по нашему двору, в алом платье, оттеняющем
алебастровую кожу и золотой венец роскошных волос, похожая одновременно на
княгинь с Рокотовских портретов и суперзвезду советского кино Элину Быстрицкую.
И даже шумно играющие во дворе дети вдруг стихают, глядя ей вслед. Так она шла
по улицам города, ставшего ее судьбой – сопровождаемая восхищенными взглядами
прохожих… Через многие годы, когда я написала рецензию на спектакль Ваге
Шахвердяна "Старые боги", в нашем доме раздался звонок. Она ввела меня
в Национальный театр имени Сундукяна и вообще – в Театр. Через годы мне выпала
честь – театральная общественность стала называть нас коллегами… А еще сама она
называла меня не только подругой, но часто представляла – "моя
племянница". Она терпеть не могла фамильярности, но соглашалась оставаться
"тетей Ритой".
Эти обсуждения спектаклей! И каждый раз мысль – почему
это не записывается? Чтобы сохранилась навсегда – эта взволнованная речь, этот
роскошный язык, этот увлекающийся и увлекающий голос, это фантастическое владение
мировой культурой, становящееся фоном каждой темы, эти неожиданные аллюзии и
парадоксальные ретроспекции. Ее любовь к театру была сродни любви Данте к
Беатриче, а талант рассказчика и интерпретатора позволял видеть спектакль ярче,
чем на сцене. Захоти мы, и на армянском телевидении имелась бы программа
блистательной устной презентации культуры в самом широком ее контексте, и
традиция, идущая еще от Ираклия Андроникова, продолженная сегодня на канале
"Культура" Смелянским, Паолой Волковой, стала бы для нас явью. Увы –
"культурных людей", людей, заинтересованных в культуре, становится
все меньше, и осознание этого факта стало ее пронзительной, непроходящей болью.
ГЛАВНЫМ И В ЖИЗНИ,
И НА ТЕАТРЕ СЛОВОМ СТАЛИ "ДЕНЬГИ", И МАРГАРИТА ЯХОНТОВА не умела и не хотела с этим
мириться. Ведь художник хрупок. В отношениях с миром ему нужна поддержка, и не
только материальная. Он нуждается, чтобы его ссужали духовной энергией не
менее, чем деньгами. Еще до конца не изучено, сколько дала женская энергия
творцам. Это особый талант – быть музой. А она была музой чуть ли не всего
армянского театра своего времени. Художнический характер проявлялся не только
профессионально - в статьях и выступлениях - а в деятельности ради искусства, и
часто создавал свое искусство. Через других. Не будь энергетики таких людей –
не появлялись бы многие блестящие работы.
Трудно назвать хотя бы одного значительного армянского
режиссера последних четырех десятилетий, чьей правой рукой она бы не считалась
и к чьему успеху не приложила бы руку. И свой редкостный дар соратника и
сорадователя. Грачья Капланян, Хорен Абрамян, Ерванд Казанчян, Акоп Казанчян,
Армен Хандикян – гастроли, встречи, проекты, обсуждения и споры до хрипоты,
общие победы. И спектакли, спектакли, спектакли… Она была "Энциклопедией
армянской театральной жизни", о которой могла говорить бесконечно – то
вдохновенно, взахлеб, то с иронией и сарказмом. Вкусовщина и убожество на сцене
были для нее личным оскорблением. "Ужас!" - слышался в зале
негодующий "шепот". Перед спектаклем со смутными перспективами
Марианна проводила в наших рядах лекцию-увещевание "вести себя
прилично", грозя "рассадить" в противном случае…
Несмотря на умение быть поклонницей любого истинного
таланта, среди деятелей театра первой обоймы у нее были свои "номер раз"
- худруки, народные артисты Александр Григорян и Ваге Шахвердян. Еще был уже
ушедший замечательный театральный художник Евгений Софронов. Русский театр, о
котором Маргарита Яхонтова написала не одну книгу и сотни статей, многие годы
был ее вторым домом, а его бессменный худрук Александр Самсонович, Саша –
другом, "своим" на все сто, их объединяли общая ленинградская юность
и ереванская молодость, их объединяли жизнь в театре, споры – художественные и
политические. До хрипоты и "обид на всю жизнь"… "А теперь – это
же ужас какой – не позвонишь, не поговоришь, ни утром, ни вечером…", -
говорил Александр Самсонович, сглатывая ком в горле. Выступить на траурном
митинге, несмотря на все уговоры, он так и не нашел в себе сил.
"СПАСИБО ВАМ,
МИЛЫЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ, СПАСИБО, ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА. Я говорю это не только от своего
имени. Спасибо вам от имени всех нас, от имени армянского театра", -
говорил в той самой телепередаче Ваге Шахвердян. "Маскарад" и
"Три сестры" еще в Ванадзоре – "О, как жаль, что ты этого не видела!".
И "Аве Мария!", и "Старые боги", и "Трамвай
"Желание", и "Вишневый сад" и многие-многие спектакли,
поездки от Колумбии до Литвы, и счастливые миги побед, и взаимные обиды,
которые уходили, отступая перед десятилетиями дружбы и любви.
В последние годы, когда Маргарита Викторовна стала
болеть, панацеей от всех хворей оставался театр. Она шла на спектакль, пусть не
самый шедевральный – и глаза обретали прежний блеск, голос вновь звучал
вдохновенно и глубоко, просыпался темперамент к дискуссии, просыпалось то, что
так точно называется в английском языке passion of living и что вместе с
passion of theatre составляло основу ее бытия.
За две недели до
ее ухода мы были на премьере – в ее любимом Русском театре. Чудо излечения на
сей раз не произошло… Мне всегда казалось, что в стоянии в почетном карауле
деятеля культуры есть некое "примазывание" к чужой славе. А тут –
душевная потребность. Отдать долг. Учителю. И другу. "Тете Рите".
Блестящему человеку театра. Заслуженному деятелю искусств РА Маргарите Яхонтовой.
Уже сорок дней ее
нет с нами. Но эффект присутствия работает. Он будет работать долго – пока
культуре, театру, всем нам будет так недоставать хранителей огня.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2025-07-25 10:50
Из-за вымытого до блеска стекла витрин уже можно разглядеть детские работы тех, кто сегодня стал признанным в стране, а местами и за ее пределами мастером живописи, графики, керамики... В нижнем помещении - большой зал с дизайнерски оформленной стеной-хранением - краски, кисти, рулоны цветной бумаги, клубки шерсти... Директор Национального центра эстетики имени Генриха Игитяна Ваан БАДАЛЯН сдержал слово. Вразрез с некоторыми товарищами, он не согласился с притерпелостью и потратил 5 лет жизни на возвращение Центру его законных владений. Вместо бутиков, магазинов и винотеки на проспект Саят-Новы теперь смотрит развеска Музея детского искусства, открытия которого осталось ждать совсем недолго.
-
2025-07-23 10:07
Пока мы помним - Артист жив... "Обрати внимание - во всех этих портретах артиста есть если не драматизм, то по крайней мере печаль", - точно подметил замдиректора театра, носящего его имя. "Клоун с осенью в сердце"... Кумир публики, умеющий вызывать гомерический хохот, и актер-трагик с личной трагической судьбой. Великий армянский артист. Мгеру МКРТЧЯНУ, так и оставшемуся для миллионов поклонников обожаемым Фрунзиком, исполнилось бы 95. Ереванский Артистический театр – театр, им основанный и носящий его имя - посвящает сезон своего Мастеру, ставшему легендой, над которой не властно время. Прекрасным обрамлением помутневшему от времени старому зеркалу в фойе Артистического театра стали карандашные портреты-зарисовки самого Фрунзе Мкртчяна - когда человек талантлив, он талантлив во многом... А развернувшаяся в том же фойе галерея портретов Артиста, сделанных в разное время разными армянскими художниками, стала стартовым проектом, открывшим сезон посвящения.
-
2025-07-19 11:32
"От имени семьи Азнавура и его фонда хочу выразить свою глубочайшую признательность за эту дань памяти. В прошлом году в связи со 100-летием в Париже, в самом начале Елисейских полей был основан парк имени Азнавура. В этот же день мэр Парижа Анн Идальго обещала, что в этом парке будет воздвигнут памятник Шарлю Азнавуру. Я надеюсь, что эти два памятника - в Ереване и Париже - станут надежными опорами моста дружбы между Францией и Арменией, дружбы, которую мой отец никогда не переставал пропагандировать, дружбы, воплощением которой он стал", - говорил глава Фонда Азнавура Николя Азнавур.
-
2025-07-17 10:16
"В похороненных на Ераблуре гораздо больше жизни, нежели в некоторых живых..." - сказал еще десять лет назад композитор и певец Давид АМАЛЯН. Он вернулся с Первой Карабахской войны, на которую отправился мальчишкой, и потерял во Второй Карабахской мальчишку-сына... "Жизнь - это вечное "быть или не быть", но мы обречены "Быть!" - уверен музыкант.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2025-07-11 10:25
"Москву вы покорили! А впереди еще не один фестиваль. Уверена, что этот большой успех, выпавший на долю "Пенелопы" в Москве, вы повторите еще много-много раз", - говорила генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова... 6-7 июля на сцене прославленного московского театра им. Ермоловой и в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоялась мировая премьера спектакля "ПЕНЕЛОПА" авторства французской и мировой звезды, лауреата Мольеровской премии Симона Абкаряна. Совместный проект театра "Амазгаин" им. Соса Саркисяна и Чеховского фестиваля реализовался как остро современная драма и как масштабное эпическое произведение. Успех был под стать - тоже эпический.
-
2025-06-10 10:21
"Совершенно уникальный мим", - сказал о нем классик кино Андрон Кончаловский, у которого Станислав ВАРККИ снялся в одной из главных ролей в "Доме дураков" - фильме, удостоенном под десяток престижнейших кинопремий.
-
2025-05-13 10:53
...И можно снова и снова повторять - "рукописи не горят"! Впервые книга "Степанакертский Государственный Драматический театр им. В. Папазяна - летопись 1932-2023" вышла в свет в конце августа 2020 года. Папазяновцы готовились к большой театрализованной презентации альбома, вобравшего в себя 90 лет истории Степанакертского театра. Не успели... В ереванском Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна состоялась презентация книги Карине АЛАВЕРДЯН "Степанакертский Государственный Драматический театр им. В. Папазяна – летопись 1932-2023" - рукописи не горят, история сохраняется, становяь надеждой на свое продолжение.
-
2025-04-01 10:32
Празднование Международного дня театра и награждение главной театральной премией "Артавазд" пройдет в Капане - царь Артавазд едет на встречу с князьями Сюника! Эта фраза утрачивала метафоричность, становилась почвой и судьбой еще до начала праздника - беседующие с Небом на "ты" горы, Татев и Ваанаванк, история страны и ее театра, параллели и пересечения, воспоминания и перспективы... И от того, что, а главное, как происходило в огромном капанском Доме культуры, на церемонии "Артавазда", рождалось золотое марево надежды - мы были, мы есть, мы будем!