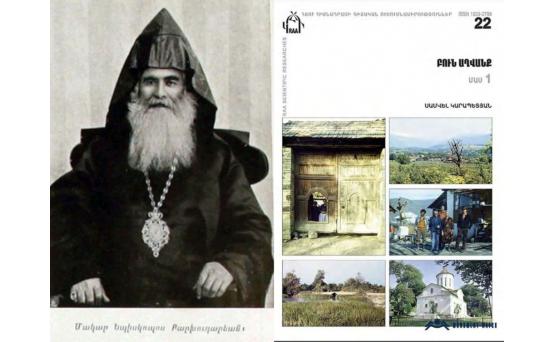МЫ ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ ТРУДОВ ОТЦОВ НАШЕЙ ДЕМОКРАТИИ
Если вы думаете, что юнга – это "подросток, обучающийся морскому делу, готовящийся стать матросом (в старом флоте - подросток, обучающийся матросскому делу на судне); в некоторых иностранных флотах - младший матрос", значит, по сговору авторов всех толковых словарей русского языка вы введены в заблуждение.
ВСЮ ПРАВДУ О ЮНГАХ ВАМ РАССКАЖЕТ И ПОКАЖЕТ УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ образования и науки Республики Армения букварь "Радуга" (изд-во "Филин", Армянская ассоциация учителей русского языка и литературы, Ереван, 2014), ученые степени и регалии авторов которой не оставляют сомнений в том, что армянских детей азам русского языка можно научить только по этому пособию. Открыв 82-ю страницу изданного на пожертвования фонда "Русский мир" (об этом сообщается в объявлении, помещенном на титульном листе) букваря, на которой помещены слова с буквой "Ю", вы обнаружите фотографию уже не младенца, но далеко еще и не подростка в матросском костюмчике, под которой красуется подпись: юнга.

Чтобы ребенок усвоил букву "Т" и самые
распространенные слова на эту букву, ему
в числе прочих предлагают картинку с нарисованным на ней трамваем. Если учесть,
что армянским детям этот вид транспорта давным-давно неведом, то возникает
мысль, что авторы букваря при работе над ним были озабочены проблемой
приобщения к русскому языку детей, проживающих далеко за пределами
Армении. В числе слов, иллюстрирующих
букву "Н", слово "негр". Ну а как можно было его не
назвать? (На картинке, правда, пляшущий
папуас, но это, что называется, детали.) Не будем касаться поликорректности,
ведь в педагогике главное – наглядность. А что для армянского ребенка может
быть нагляднее папуасов, разъезжающих в трамвае по Еревану?
Чтобы в отчаянии схватиться за голову и выкинуть
"учебник" в ближайший мусорный ящик,
достаточно беглого знакомства с ним, с предложенными авторами
(Б.М.Есаджанян и Л.Г.Баласанян) текстами про Борисов и Хоренов, про мальчика,
который отправился в Индию в гости к Маугли (!); с выдернутыми из контекста
всего произведения фрагментами стихов классиков детской советской литературы.
"Мойдодыр" Чуковского, например, начинается со строк "Моем, моем
трубочиста..." и кончается призывом "Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться", а дальше – многоточие и ни слова о том,
где именно призывает принимать водные процедуры Чуковский ("В ушате, в
корыте, в лохани, В реке, в ручейке, в океане и т.д.), как ни слова о нем самом. Хотя, дойдя до помещенного в конце книги алфавита,
который называется "На что похожи буквы", начинаешь понимать, что уж
лучше не указывать автора, чем приписывать его стихи кому-то другому.
То, что автором таких, например, строк "Спать
отправились подружки, Взяли пышные подушки: "Р" - одну, а буква
"В" - две, не может быть Сергей Михалков, как это указано в
"учебнике", я заподозрила не потому, что досконально знаю наизусть
всю детскую поэзию Михалкова, а потому, что у Михалкова по определению не могло
быть такой рифмы: "Р" - одну, а буква "В" - две! Стала
искать, где ошибка, что и где пропущено.
Оказалось, что ничего и нигде не пропущено, просто автором стихов, которые,
кстати, называются "Вот они какие!" является Александр Шибаев, а
стихи эти живут в интернете. Как в интернете живет подавляющее большинство тех
из помещенных в книге материалов, на знакомство с которыми хватило моего
терпения.

ОДНАКО НАИБОЛЬШИЙ
ВОСТОРГ ВЫЗВАЛА ФАМИЛЬЯРНОСТЬ, С КАКОЙ отечественные сухомлинские подошли к стихотворению
Маршака "Угомон", опять же не назвав автора. Выдрав из большого
стихотворения нужный им кусок, который, кстати, никак не объясняет смысла слова
"угомон" (элемента русской разговорной речи, встречающегося только в
идиоме "Угомон тебя возьми", использованной Маршаком в той части стихотворения,
которую составители учебника посчитали лишней: Спи, мой мальчик, не
шуми.\Угомон тебя возьми!), они со спокойной совестью адаптировали его для
армянской аудитории. И таким образом двустишие "Тише! – крикнули в ответ
Юра, Шура и Ахмет" преобразилось в "Тише! – крикнули в ответ Кара,
Нара, Карапет". Точно так же в
следующем двустишии маршаковские Коля, Оля, Галя, Валя превратились в Сару, Мару и Аршака:
"Тише, тише! – закричали\Сара, Мара и Аршак". Тому, что Коля, Оля, Галя и Валя (как и Юра, Шура и
Ахмет), что называется, рылом не вышли, а потому их следовало заменить другими
персонажами, есть объяснение: скачанные из интернета тексты рассчитаны на
детей, для которых русский язык – родная стихия, которым легко объяснить (если,
конечно, они этого не знают по сказкам), что такое, скажем, "кочерга" или
"трубочист". И педагогическое чутье
авторов букваря подсказало, что достаточно заменить русские имена армянскими (?) -
Сарой, Марой (один из моих знакомых высказал предположение, что пара "Сара, Мара" возникла по аналогии с распространенной в
просторечии формулой "картошка-мартошка", "туфли-муфли",
"клубника-млубника") и Аршаком
- и армянские дети без труда ответят на
поставленный в учебнике вопрос: "Кто такой Угомон?", а учителю не
придется ломать голову над тем, как объяснить детям, что "Угомон" –
это не живое существо, а образ, подсказанный Маршаку русской идиомой, и слово
это – производное от глагола "угомонить(ся)", что означает
"заставить кого-л. вести себя тихо, прекратить шум, крик, плач и т.п.,
успокоить". Вообще, как можно заметить, главным принципом, которым
руководствовались авторы букваря при его
составлении, было беспардонное обращение
с чужим творчеством. Разумеется, с благими намерениями
"арменизировать" учебный материал. Так, в стихотворении Сергея
Козлова, посвященном букве "А" (естественно, скачанном из интернета
и, естественно, без указания автора) строфа "Сестра читать умеет\ И с
самого утра\Читает или пишет\Большую букву "А", претерпела "необходимые"
трансформации, и в первой строчке вместо сестры вдруг возник Эдик, а чтобы не
нарушился ритм, Эдику пришлось стать "нашим": "Эдик наш читать
умеет". Причем, видимо, для убедительности рядом со стишком помещена фотография "нашего Эдика".
По этой логике не грех менять и географические названия. И старшеклассникам,
изучающим творчество Пушкина, предложить альтернативное начало "Евгения
Онегина": Бабкен (вариант – Хорен, Саркис, Смбат… на вкус учителя ),
хороший мой приятель \Родился на брегах Арпы…
А в том, что нынешняя малышня, дойдя до старших классов, будет нуждаться в вариантах, альтернативных
текстам русских классиков, можно не сомневаться, если русский язык они будут
изучать по таким "учебникам", как букварь "Радуга".
Уверенные в том, что все армянские дети видели
советский мультфильм "Про кота Леопольда", авторы букваря на 56-й
странице книги предлагают детям ответить на вопрос, почему мыши извиняются
перед котом Леопольдом. И вдруг на 110-й странице возникает пересказ начала
фильма.
БУКВАРЬ
"РАДУГА" ПОПАЛ МНЕ В РУКИ
СЛУЧАЙНО. И ОТКРЫВАЛА Я ЕГО НАУГАД. И каждая новая страница давала пищу для размышлений.
Почему, иллюстрируя букву "А" словом "аэропорт",
обязательно нужно указать, какой именно это аэропорт? А если это непременное условие составления
букваря, почему нельзя довольствоваться только одним, знакомым многим из
детей ереванским аэропортом? Почему
дружбу двух братских народов нужно было подчеркнуть помещенной рядом с
фотографией "Аэропорт Еревана" картинкой с подписью: "Аэропорт
Москвы"? При этом признаком того, что это московский аэропорт является
снятый крупным планом самолет с надписью: "Армавиа", за которым
различить вывеску "Шереметьево" можно, только приложив усилия?
Почему слово "фокус" должно быть
проиллюстрировано картинкой, изображающей руки иллюзиониста, за уши вытаскивающего
из сценической шляпы-цилиндра белого зайца с лицом младенца и соской во рту?
Я еще раз подчеркну, что книгу открывала наугад, и потому
не знаю, какие еще сокровища сокрыты в этом источнике знаний. Но объективности
ради не могу не отметить, что в конце его меня ждал сюрприз в виде
стихотворения Маршака "Про все на свете" (которое на самом деле
называется "Веселая азбука про все на свете"), где строчки про букву
"Ю" проливают свет на слово "юнга": "Юнга – будущий
матрос – Южных рыбок нам привез".
Таким образом, если, начиная учить буквы, дети думали, что юнгой может быть любой
ребенок в матросском костюмчике, то, научившись читать, они могут открыть для
себя многозначность этого слова. Однако авторы изменили бы себе, если бы и в
связи с этим стихотворением не дали
повода задать им вопрос: почему двустишие "Воробей влетел в окно\
Воровать у нас пшено" иллюстрирует картинка с воробьем, держащем в лапке
телефонную трубку и о чем-то "беседующим" с вороной? Не потому ли,
что у Маршака это двустишие звучит иначе: "Воробей просил ворону\ Вызвать
волка к телефону"?
В Советском Союзе было много абсурдного. Абсурдным, в
частности, было то, что, одержимые карьерным зудом, все, кому не лень, защищали
диссертации и, получив документальные свидетельства своей учености, искренне начинали верить в то, что
они имеют какое-то отношение к науке. (Примечательно, что
"демократические" власти
предпочли унаследовать как раз все абсурдное и традиция штамповать
"ученых" продолжает доминировать над здравым смыслом. И сегодня в
отчетах вузовских кафедр обязательно указывается, каким количеством новобранцев
данная, конкретная кафедра пополнила ряды деятелей отечественной науки.)
Но в той стране было много, очень много положительного. Одним из достоинств советской действительности
было то, что в штате любого издательства были профессиональные редакторы и
корректоры. И если бы какой-нибудь доктор или кандидат наук возомнил, что
его произведение – Священное писание, а потому оно не подлежит редактуре, то
редактор издательства его быстро спустил
бы на землю, а рукопись с пошлой и фамильярной интерпретацией стихов классика
зарубил бы на корню, не тратя времени и сил на поиски новых доказательств
профнепригодности автора.
Я не имею никакого отношения к школе, но, если
верить осведомленным людям, букварь "Радуга" не самый идиотский
из школьных учебников. Не имея обыкновения делать умозаключения по чужим
впечатлениям, не могу судить об учебнике по физкультуре (говорят, есть и такой)
и по другим предметам. Но точно знаю, что, если
ребенок свой путь в освоении какого-то предмета начинает с низкопробной пародии
на учебник, то его путь к невежеству будет устлан розами и свернуть с него он
сможет только в случае, если родители запретят ему пользоваться всякими
радугами-мрадугами. Предвижу реакцию возмущенных авторов букваря и их
единомышленников, предвижу самый веский из аргументов: "Критиковать может
каждый, можешь - сделай лучше". Опережая разоблачение, отвечаю: я рядовой
филолог, не имеющий никакого отношения к педагогике, не обремененный ни одной
из существующих ученых степеней и, насмотревшись на сомнительных ученых,
никогда не страдавший комплексом неполноценности по поводу своей
неостепененности. Составлять учебники не мое занятие. Как не мое занятие
оперировать больных. Но это не значит, что если бы какой-нибудь нерадивый
хирург вместо того, чтобы удалить гланды, ампутировал мне ногу, у него было бы
право возмутиться моим недовольством.

P.S. МОЕ СЛУЧАЙНОЕ
ЗНАКОМСТВО С БУКВАРЕМ "РАДУГА"
ПРОИЗОШЛО в
разгар активизации армянской оппозиции, пообещавшей начавшиеся 10 октября митинги довести до
смены власти. Опыт многочисленных стран показывает, что в подавляющем
большинстве случаев плохую власть может смести только еще худшая.
Мертворожденный конгломерат из трех оппозиционеров, в котором не последнюю роль
играет Левон Тер-Петросян, не дает оснований надеяться на то, что, не дай бог,
установленная ими власть будет лучше нынешней. Гарантом того, что Тер-Петросян
может быть если не преступным, то никчемным властителем, служит наше недавнее, забытое
романтиками прошлое, годы правления АОД.
Впечатления от бездарного "учебника" заставили
задуматься о многом, в том числе и о том, что этот полиграфический продукт на
свет появился не от хорошей жизни.
Возникла острая необходимость в создании учебных пособий по русскому
языку, и возникла она потому, что сегодня мы пожинаем плоды трудов отцов
армянской демократии. Это они в начале
90-х с остервенением шизофреников рубили
сук, на котором сидели и под истошные вопли о вреде, причиненном русским языком
армянскому, вытравляли из обращения
язык, служивший посредником и связывавший трехмиллионную Армению со всем
миром.
Их вдохновляли две категории мыслителей, которых,
несмотря на некоторые расхождения во взглядах, объединяла светлая идея о необходимости
изъятия из употребления русского языка
как символа тоталитарной империи. При этом одни из них, ссылаясь на пример
Байрона, заявляли, что настоящие друзья Армении, способные по достоинству
оценить сокровища нашей культуры и литературы, сами изучат армянский язык и все
прочитают-узнают-исследуют в оригинале. Представители второй категории, более
либеральной, признавая, что малочисленному народу без языка-посредника никак не
обойтись, оптимистично заверяли, что
такому талантливому народу, как армяне, ничего не стоит в кратчайшие сроки
перейти с ненавистного русского на милый
душе каждого армянина английский. И, хотя эти были несколько трезвее первых,
количества извилин в их мозгах оказалось
недостаточно, чтобы подсчитать, какую цену придется заплатить за хирургическое отторжение языка, несколько
десятков лет служившего проводником во всех областях знаний, и привитие
нового. (Специально говорю только с
прагматической точки зрения, не прикасаясь к "лирике", не вспоминая
Абовяна с его "Благословен тот час…" или Исаакяна с его одним русским солдатом на границе с Арменией,
который "перевешивает всю Лигу Наций".)
СБРАСЫВАЯ ТЯЖКОЕ
БРЕМЯ ТОТАЛИТАРНОЙ ИМПЕРИИ И ПОГРУЖАЯСЬ В БЕЗДОННУЮ ПУЧИНУ "независимости",
"демократические" власти заодно избавляли нацию от профессиональных
специалистов во всех сферах деятельности. И в первую очередь - от
преподавателей русских школ, чья вина перед отечеством заключалась в том, что
они с помощью русского языка приобщали армянских детей к мировой литературе,
науке, культуре, способствовали тому, чтобы Армения, всегда славившаяся своими
талантами, не скатилась на уровень глухой провинции. Были у них и свои
приспешники. Фельетонисты и карикатуристы, которые, изощряясь в незаурядных
талантах, заполняли страницы провластной прессы своими на редкость
интеллектуальными пасквилями и карикатурами в адрес здравомыслящих людей,
пытавшихся остановить это безумие. У меня сохранилась одна такая карикатура на
человека, утверждавшего, что малочисленному народу противопоказано отрекаться
от языка, на котором он может говорить со всем миром, представлять свой народ,
свою культуру, что любой малочисленный народ, если хочет быть услышанным,
обречен быть как минимум двуязычным и помимо обязательного родного языка
владеть еще каким-то другим (а лучше - другими); что, отрекаясь от русского
языка, армяне рискуют получить полноценных дилетантов во всех областях
человеческой деятельности, потому что на русском языке все вузовские учебники
и, если в школах не на должном уровне будет преподаваться русский язык,
студенты элементарно не смогут ими пользоваться. (Этот образец жанра
"Сатирическая карикатура" не
подлежит словесному описанию, исчерпывающее представление об интеллекте
и художественном вкусе его создателя и заказчиков можно составить, только увидев
его.)
Не прошло и четверти века, как прогнозы
здравомыслящих людей оправдались. Вернее, сбываться они начали сразу, когда из
Армении начался отток населения. Разумеется, уезжали прежде всего от
невыносимой жизни, но немало было и тех (например, десятков тысяч русскоязычных
армян, беженцев из Азербайджана, в большинстве своем городских жителей, чьи
профессиональные навыки и опыт работы никак не помешали бы Армении), для кого
дополнительным стимулом к принятию непростого решения об эмиграции послужила война,
объявленная русскому языку. Но власти Армении не занимали свои головы такими
мелочами, они мыслили глобальными категориями и философски относились к отъезду
из Армении как русскоязычных беженцев, так и местных,
ставших невостребованными,
высококлассных профессионалов. С ностальгией вспоминаю гениальные
откровения одного из премьер-министров эпохи Тер-Петросяна, который во время
своего визита в братскую Турцию (радостную весть о братании с турками сообщил
нам он сам: "У нас сегодня с турецким государством серьезные братские
отношения"!) заявлял: "Я думаю, что удовлетворяться только чтением
газет Армении ошибочно. Например, в газетах Армении вы можете встретить иногда
и информацию, подаваемую с узкой точки зрения. Иногда, например, говорят, что в
прошлом году 12 ученых покинули Армению по причине существующих в ней плохих
условий. Я бы считал эту информацию трагической, если бы страну покинули или
выехали из Армении не 12, а 120 человек. Надо мыслить широко. Люди должны
выезжать из страны, видеть и лучшее применять в Армении. Нельзя
руководствоваться средневековыми умонастроениями".
ВООБЩЕ В БЫТНОСТЬ
СВОЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ЭТОТ ШИРОКОМЫСЛЯЩИЙ И СВОБОДНЫЙ от средневековых умонастроений
политик не скупился на интересные и остроумные мысли. Но сегодня, видимо, из
деликатности ему не напоминают об этом,
не просят рассказать о тех ученых, которые вернулись в Армению, чтобы "все
лучшее применять на родине". И
он, умудренный опытом и убеленный сединами, взвалив на себя тяжкое бремя заботы
об отечестве, не жалея сил и энергии,
пытается достучаться до равнодушных сердец своих коллег, депутатов
парламента…
Казалось, радетелям за народное благо, в кратчайшие сроки
добившимся невиданных успехов в деле превращения процветавшей страны в
парализованное захолустье, можно было остаток своей поствластной жизни
проводить спокойно, с чувством выполненного долга (вряд ли они не понимали,
насколько катастрофично для нации их пребывание у власти). Но нет. Их мятежные
души снова рвались в бой, на взятие новых бастионов. И, переведя дыхание,
старые деятели с новыми силами вступили в политическую борьбу. И вот уже
который год подряд на Театральной
площади, как четверть века назад, звучит
дистиллированная речь профессионального филолога, призывающего народ на борьбу с нынешней
властью. Все меньше и меньше остается тех, кто знает цену этим призывам: кто-то не дожил до второго пришествия первого
президента, а кто-то давно уехал из Армении. Все меньше и меньше остается и той
интеллигенции, совести нации, к слову которой мог бы прислушаться народ (год
назад ушел едва ли не последний из них, Сос Саркисян). Выросло новое поколение,
которое может не знать, что первый президент Третьей Республики Армения был
значительно менее общительным и доступным для народа, чем сейчас, и если он
иногда снисходил до того, чтобы появиться на экране телевизора, то делал это
исключительно для того, чтобы пожурить народ за непонятливость и менторским
тоном порекомендовать ему с пониманием относиться ("ъмбрнумов
мотенал") к "временным" трудностям. Может быть, народ и стал бы
"ъмбрнумов мотенал" к "временным" трудностям, если бы они,
эти трудности, хоть как-то коснулись президента и всего его революционного окружения. Наоборот, народу пришлось стать
свидетелем перерождения красноречивых
демагогов "из грязи - в князи", со всеми сопутствующими безбедной
княжеской жизни последствиями.
Сегодняшней молодежи не объяснишь, какое отвращение
вызывал человек, в одно мгновение забывший русский язык, который, услышав
русскую речь какого-нибудь оратора, властным жестом останавливал его и требовал
обеспечить перевод ("апаовел таргманутьюнъ"). Это было тем более
отвратительно, что сам он образование
получил не то в Москве, не то в Ленинграде, а в жилах его детей наряду с
армянской течет и кровь народа, чьим родным языком в Советском Союзе был
русский.
Сегодняшняя молодежь не может знать, какую истерику
поднимали борцы за процветание нации, когда некоторые из тысяч благородных
людей, со всего света примчавшихся на помощь, пострадавшей от землетрясения
Армении, увозили осиротевших,
покалеченных детей на лечение в свои страны: "Армению лишают
генофонда!" - били в набат наши "патриоты". Гнев их вполне объясним: разогнать народ по
всему свету – это исключительно их прерогатива.
СЕГОДНЯШНИЕ
ПРИВЕРЖЕНЦЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО
МЕРТВЫМ ЯЗЫКАМ, возможно, не в курсе, что Новый год
для армянских женщин был самым желанным и любимым праздником, потому что только
на Новый год электричество давали чуть ли не на целые сутки и можно было
провернуть максимальное количество связанных с ним домашних дел; что
отличительной чертой армянских женщин были отмороженные руки; что, вызывая
"скорую помощь" к больному, на ее приезд можно было рассчитывать
только в случае, если ты обещал обеспечить бригаду бензином; что, выйдя из холодного дома в замерзший
город, можно было полюбоваться
бредущими в сумерках толпами мрачных людей, вынужденных из-за отсутствия
транспорта совершать марш-броски из одного конца города в другой; что
неотъемлемой частью городского пейзажа стали обрубки деревьев, а одной из
реалий той жизни - санки с наваленными
на них дровами (не всегда сухими, потому что это были ветки только что
срубленных и спиленных деревьев). Обо всех доблестях аодовского режима сегодняшняя молодежь может не знать, но она
может вспомнить свои школьные годы, вспомнить, что школы тогда работали всего
пять месяцев в году, а учебники у них были напересчет, по нескольку штук на
весь класс. Хотя, возможно, именно тем, что школу тогда только условно можно
было назвать школой, и объясняется такое
количество участников антиправительственных митингов, их предрасположенность
всерьез воспринимать пламенные речи
прославившихся своими бесчисленными подвигами ораторов, которые,
вызволив армянский народ из цепких когтей коммунистов, сейчас готовы довести до
конца незавершенный два с половиной десятка лет назад процесс
"возрождения" нации.
…Много-много лет назад в журнале "Иностранная
литература" (его, кстати, наряду с многочисленными другими интересными и
содержательными журналами выписывала и читала вся армянская интеллигенция, как
"лирики", так и
"физики") был опубликован небольшой очерк Юлиана Тувима об оперетте.
Начинался он словами: "Велики и неисчислимы мерзости сценического зрелища,
именуемого опереттой". Возможно, это энергичное начало очерка так впечаталось
в мою память потому, что к оперетте я отношусь так же, как Тувим. И
почему-то каждый раз, когда я вижу по
телевидению развернутое на Театральной площали действо с участием Левона
Тер-Петросяна, я вспоминаю эту фразу...
Постскриптум к
моему небольшому посвящению букварю получился
слишком пространным. Что делать? В этом мире все взаимосвязано. И
митинги оппозиции, вроде не имеющие
никакого отношения к "Радуге",
высветили очевидную причинно-следственную связь...
А многотрудный путь к возрождению русского языка в
Армении (без ущерба армянскому языку, именно это подчеркивали в начале 90-х
здравомыслящие армяне) должен начинаться не с пособий, укомплектованных
скачанными из интернета и изнасилованными текстами, не с дегенеративных
рассказов про борисов, хачиков и хоренов
(как глубоко символично это соседство русских и армянских имен!), а с обращения
к старым, проверенным временем советским учебникам русского языка для
иностранцев, с их адаптации к нашей действительности. И главными критериями при
подборе потенциальных авторов таких учебников должны быть не многочисленные
регалии и статус, но их высокий профессионализм, добросовестность, честность и опыт практической работы с
малолетками, не владеющими русским языком. Преподавать
же русский язык надо начинать не параллельно армянскому, а только после того,
как армянские дети научатся читать на родном языке. Чтобы они могли прочитать
толкование слова, а не верить картинке со спящим младенцем, наряженным в
костюмчик зайца (почему-то желтого цвета), под которой красуется подпись:
зайчик.
Сара-мара КАРАПЕТ
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2025-04-16 15:12
Очень дорогой Сергей! Мы поздравляем Вас с 85-летием! Ваше молодое наблюдательное и остроумное перо делает честь любому изданию, стремящемуся к объективному отражению времен и событий, их анализу, включая "Голос Армении".
-
2024-09-13 14:41
Коллектив газеты «Голос Армении» поздравляет коллег и многолетних партнеров – редакцию сайта russia-armenia.info и его главного редактора Арама Хачатряна с публикацией 100-тысячного материала.
-
2022-02-07 10:32
Ушел из жизни… Эти слова в наши дни стали непростительно обыденными. С некоторых пор жизнь – сплошное расставание. Вот теперь с композитором - песенником, народным артистом республики, организатором и художественным руководителем Государственного театра песни Артуром ГРИГОРЯНОМ.
-
2021-12-31 15:32
Уважаемые читатели "Голоса Армении"! Сообщаем, что сайт "ГА" возобновит свою работу 4 января 2022 года.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2025-04-26 12:01
Есть такая известная в народе шутка: было у отца три сына: двое умных, а третий – футболист». На самом деле среди мастеров кожаного мяча есть немало таких, кто добился успехов не только на поле, но и в учебе, успешно совмещая спортивную карьеру с получением высшего образования.
-
2025-04-14 10:17
Этой программой правящая в Армения семья занимается давно, не надо думать, что это их недавнее открытие. Обучением своих сограждан они занимаются активно с момента прихода во власть и сами, надо отдать им должное, очень быстро и революционно обучаются.
-
2025-01-30 10:32
Законопроект "О дополнениях и изменениях в законе РА об основах культурного законодательства" вызвал очередной девятый вал возмущения. В нем предлагается заменить слово "Национальный" в названиях очагов культуры, пребывающим в этом статусе, на "Общегосударственный". Волна возмущения заставила давать по этому поводу объяснения как депутатов НС, инициировавших поправки в законе, так и министра ОНКС. Согласно этим объяснениям, в названии соответствующих учреждений культуры слово "Национальный" остается - "Общегосударственным" становится их официальный статус, а название - пусть себе! Словом, история мутная. Председатель Совета директоров театров и концертных организаций, заслуженный деятель искусств Рубен БАБАЯН уверен, что в законопроекте гораздо больше подводных течений, чем тезис об отмене слова "национальный", которой формально не будет.
-
2025-01-20 10:18
«Столь беспечны и равнодушны мы, что не знаем даже, какие древности, оставленные нам в наследие предками, имеются на нашей родине, не знаем, какая память об исторических древностях скрывается в окружающих нас горах, ущельях и лесах, не знаем, какие надписи, освещающие темные места нашей национальной истории, сохранились на стенах разрушенных ныне монастырей и церквей, часовен и пустынь, на хачкарах и плитах надгробных, в памятных записях пергаментных рукописей. Пользу от нашего равнодушия извлекают чужаки», - так начинается книга-исследование епископа Армянской Апостольской Церкви, путешественника, писателя, этнографа, археолога и педагога Макара Бархударянца.